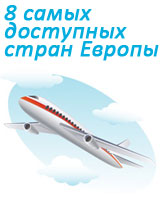Смеясь над уморительными фильмами Чарльза Спенсера Чаплина, как-то не особенно задумываешься над тем, что этот великий киноактёр и режиссёр был человеком с активной жизненной позицией, который не боялся отстаивать свою точку зрения. Таким людям всегда не просто, а если он на виду, если он богат, знаменит и талантлив, то можете себе представить, какую злобу вызывают его мнения, не совпадающие с мнением большинства. Чарли Чаплин, живший в наиболее антикоммунистически настроенной стране, громогласно заявлял о своих симпатиях к СССР. Выходец из мрачного лондонского Истэнда, достигший богатства и мировой славы, воплощение Великой американской мечты, он беспощадно критиковал дикий капитализм 2030 годов XX века за пропасть между богатыми и бедными, за неразборчивость в достижении цели. Один из последних независимых кинодеятелей Америки, он не боялся бросить вызов Голливуду, газетным магнатам, монополиям кинопрокатчиков. Естественно, при каждом удобном случае могущественные недруги старались если не уничтожить популярность Чаплина, то хотя бы уменьшить его огромное влияние на зрительскую аудиторию, на общественное мнение в США.


 1 ноября 1960 года на киностудии «Мосфильм» проходило обсуждение отснятого материала для нового фильма про войну «Иван». Мнение всех участников этого совещания было единодушным — полный провал. Фильм о юном герое-разведчике был настолько лакирован и банален, что никакими переделками спасти его было уже нельзя. Что делать, закрывать фильм? И вот, когда казалось, что это неизбежно, спасти «Ивана» взялся совсем молодой режиссёр — Андрей Тарковский. За его плечами был только дипломный фильм «Каток и скрипка», который, правда, был настолько хорош, что его показывали в кинотеатрах. После некоторых раздумий решили отдать фильм Тарковскому: хуже, мол, всё равно не будет. Сценарий переписан, актёры заменены, весь уже отснятый материал отвергнут. В считанные месяцы снимается совсем новое кино, с минимальным бюджетом, ведь все средства «съедены» неудачным вариантом. Результат превзошёл все ожидания: фильм «Иваново детство» завоевал «Золотого льва» в Венеции, победил ещё на нескольких престижных кинофестивалях, его долго обсуждала пресса всего мира.
1 ноября 1960 года на киностудии «Мосфильм» проходило обсуждение отснятого материала для нового фильма про войну «Иван». Мнение всех участников этого совещания было единодушным — полный провал. Фильм о юном герое-разведчике был настолько лакирован и банален, что никакими переделками спасти его было уже нельзя. Что делать, закрывать фильм? И вот, когда казалось, что это неизбежно, спасти «Ивана» взялся совсем молодой режиссёр — Андрей Тарковский. За его плечами был только дипломный фильм «Каток и скрипка», который, правда, был настолько хорош, что его показывали в кинотеатрах. После некоторых раздумий решили отдать фильм Тарковскому: хуже, мол, всё равно не будет. Сценарий переписан, актёры заменены, весь уже отснятый материал отвергнут. В считанные месяцы снимается совсем новое кино, с минимальным бюджетом, ведь все средства «съедены» неудачным вариантом. Результат превзошёл все ожидания: фильм «Иваново детство» завоевал «Золотого льва» в Венеции, победил ещё на нескольких престижных кинофестивалях, его долго обсуждала пресса всего мира.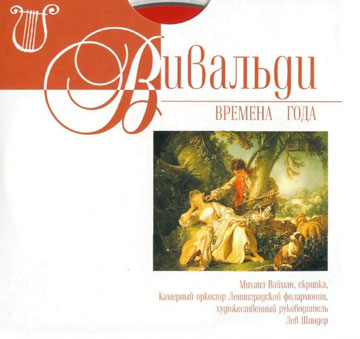
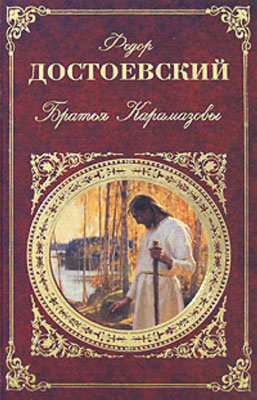 Можно любить или не любить Фёдора Михайловича Достоевского, можно восхищаться его романами или ввести в свой лексикон презрительно-снисходительное словечко «достоевщина», но если только понятие «загадочная русская душа» имеет право на существование, то вряд ли кто сказал о ней более ярко и более полно, чем он. И очень символично, что именно последнее произведение Достоевского, роман «Братья Карамазовы», стало высочайшей вершиной творчества этого писателя, тогда как большинство других авторов сказало своё главное слово в расцвете жизненных сил. Потребовалась вся, без остатка, жизнь гения, чтобы человек впервые смог в ярком художественном повествовании увидеть, какие мрачные бездны и прекрасные миры скрывает в себе его душа.
Можно любить или не любить Фёдора Михайловича Достоевского, можно восхищаться его романами или ввести в свой лексикон презрительно-снисходительное словечко «достоевщина», но если только понятие «загадочная русская душа» имеет право на существование, то вряд ли кто сказал о ней более ярко и более полно, чем он. И очень символично, что именно последнее произведение Достоевского, роман «Братья Карамазовы», стало высочайшей вершиной творчества этого писателя, тогда как большинство других авторов сказало своё главное слово в расцвете жизненных сил. Потребовалась вся, без остатка, жизнь гения, чтобы человек впервые смог в ярком художественном повествовании увидеть, какие мрачные бездны и прекрасные миры скрывает в себе его душа.

 Имя этого великого итальянского поэта, мыслителя, политика до сих пор вызывает жаркие споры в среде литературоведов и историков. Кем был Данте Алигьери: последним человеком Средневековья, сочинившим во славу Творца самое совершенное поэтическое описание загробного мира, или же первым человеком Возрождения, которому Ад, Рай и Чистилище понадобились лишь для того, чтобы на их фоне воспеть достоинства и проклясть пороки рода людского? Воплотил ли он в своей «Божественной комедии» уходящую средневековую традицию, или выразил в ней пока ещё неосознанное в обществе стремление к переменам? А может, «Божественная комедия» не граница, а мост, связующий две прекрасные эпохи в истории Европы?
Имя этого великого итальянского поэта, мыслителя, политика до сих пор вызывает жаркие споры в среде литературоведов и историков. Кем был Данте Алигьери: последним человеком Средневековья, сочинившим во славу Творца самое совершенное поэтическое описание загробного мира, или же первым человеком Возрождения, которому Ад, Рай и Чистилище понадобились лишь для того, чтобы на их фоне воспеть достоинства и проклясть пороки рода людского? Воплотил ли он в своей «Божественной комедии» уходящую средневековую традицию, или выразил в ней пока ещё неосознанное в обществе стремление к переменам? А может, «Божественная комедия» не граница, а мост, связующий две прекрасные эпохи в истории Европы?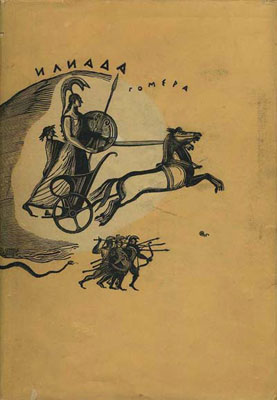 Право называться родиной великого Гомера в Древней Греции оспаривали целых семь городов. Уже одно это говорит о том, что никаких достоверных сведений о его жизни не существует. Есть множество теорий о том, были ли обе поэмы написаны одним человеком, или несколькими, являлся ли Гомер автором, или только рассказчиком... До какого-то момента надёжно установленными считались лишь два факта: что Гомер был слеп, и что все описанные в его поэмах события — гениальная выдумка художника.
Право называться родиной великого Гомера в Древней Греции оспаривали целых семь городов. Уже одно это говорит о том, что никаких достоверных сведений о его жизни не существует. Есть множество теорий о том, были ли обе поэмы написаны одним человеком, или несколькими, являлся ли Гомер автором, или только рассказчиком... До какого-то момента надёжно установленными считались лишь два факта: что Гомер был слеп, и что все описанные в его поэмах события — гениальная выдумка художника.

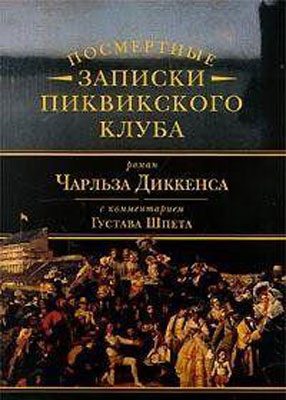 Этот роман, первый роман Диккенса, и последний его юмористический роман, был рождён в удивительном мире английских журналов XIX века. Многие прекрасные книги; вошедшие в Золотой фонд мировой литературы, были созданы благодаря английскому журналу. Писатели, даже такие крупные величины, как Чарльз Диккенс и Уильям Теккерей, писали для журналов большие романы с продолжениями, Из-за журнальной специфики, для поддержания интереса читателей, авторам приходилось заканчивать текст.
Этот роман, первый роман Диккенса, и последний его юмористический роман, был рождён в удивительном мире английских журналов XIX века. Многие прекрасные книги; вошедшие в Золотой фонд мировой литературы, были созданы благодаря английскому журналу. Писатели, даже такие крупные величины, как Чарльз Диккенс и Уильям Теккерей, писали для журналов большие романы с продолжениями, Из-за журнальной специфики, для поддержания интереса читателей, авторам приходилось заканчивать текст.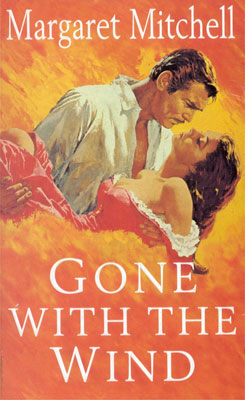 Всё началось в 1926 году. Двадцатишестилетняя Маргарет Митчелл написала на чистом листе бумаге: «Она не сумела понять ни одного из двух мужчин, которых любила, и вот теперь потеряла обоих». Эта фраза должна была стать (и стала) одной из ключевых фраз последней главы, но кроме неё для задуманного романа не было написано ещё ни строчки. Сам замысел был понятен начинающей писательнице в самых общих чертах, достаточно сказать, что некоторые главы она переделывала до 50 раз! Листы с только что написанными вариантами Митчелл прятала в самые неожиданные места до всему дому, к немалому удовольствию друзей семьи, постоянно натыкающихся на какие-то бумажки. Когда глава «доходила», листы извлекались из шкафа, или из-под ковра и работа продолжалась. Если сюжет рождался постепенно, то время и место действия романа были предопределены чуть ли не с самого рождения Маргарет Митчелл.
Всё началось в 1926 году. Двадцатишестилетняя Маргарет Митчелл написала на чистом листе бумаге: «Она не сумела понять ни одного из двух мужчин, которых любила, и вот теперь потеряла обоих». Эта фраза должна была стать (и стала) одной из ключевых фраз последней главы, но кроме неё для задуманного романа не было написано ещё ни строчки. Сам замысел был понятен начинающей писательнице в самых общих чертах, достаточно сказать, что некоторые главы она переделывала до 50 раз! Листы с только что написанными вариантами Митчелл прятала в самые неожиданные места до всему дому, к немалому удовольствию друзей семьи, постоянно натыкающихся на какие-то бумажки. Когда глава «доходила», листы извлекались из шкафа, или из-под ковра и работа продолжалась. Если сюжет рождался постепенно, то время и место действия романа были предопределены чуть ли не с самого рождения Маргарет Митчелл.
 1569 год. Двадцатидвухлетний юноша с крошечной суммой денег и документами, удостоверяющими законное происхождение, принадлежность к католической церкви всех его предков и отсутствие интереса со стороны инквизиции, поступает офицером в испанскую армию. Спустя два года во время страшного морского сражения при Лепанто, молодой испанец получил три тяжелейших раны (из-за одной его левая рука до самой смерти осталась неподвижной). Хоть и изувеченный, вынужденный навсегда распрощаться с военной карьерой, но всё-таки живой, Он должен был вернуться домой, в Испанию.
1569 год. Двадцатидвухлетний юноша с крошечной суммой денег и документами, удостоверяющими законное происхождение, принадлежность к католической церкви всех его предков и отсутствие интереса со стороны инквизиции, поступает офицером в испанскую армию. Спустя два года во время страшного морского сражения при Лепанто, молодой испанец получил три тяжелейших раны (из-за одной его левая рука до самой смерти осталась неподвижной). Хоть и изувеченный, вынужденный навсегда распрощаться с военной карьерой, но всё-таки живой, Он должен был вернуться домой, в Испанию.